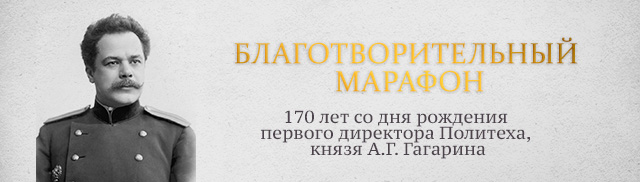(1).jpg)
Среди выпускников Политеха встречаются люди самых разных профессий. Инженеры и писатели, конструкторы и режиссёры, экономисты и музыканты. Словом, и физики, и лирики.
Есть среди политехников и те, кто выбрал стезю служения Богу. Так, стал священником выпускник экономического факультета 1914 года Викторин Добронравов. Советская власть расстреляла его в 1937 году, а в 2004-м Русская православная церковь причислила к лику святых как новомученика.
Сегодня герой проекта "Персона" — настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Санкт-Петербурге и храма Успения Божией Матери в Лезье и Сологубовке протоиерей Вячеслав Харинов. Он окончил Ленинградский политехнический институт в 1984 году с двумя дипломами — системного инженера и переводчика-референта. Двумя годами раньше получил профессиональное образование по классу кларнета в Университете музыкального искусства. Работал в Ленконцерте, в Музее музыкальных инструментов, выступал с рок-группами, гонял на мотоцикле, жил за границей... Его дорога к храму была непрямая и долгая. О том, что происходило на этом пути, какую роль сыграл в его жизни Политех, почему музыкант и байкер стал заниматься поисковой деятельностью и каково быть настоятелем храма, рядом с которым находится крупнейшее в России кладбище немецких солдат, — обо всём этом мы беседуем с отцом Вячеславом.
— Отец Вячеслав, я читала, что вы хотели стать священником ещё в школе?
— Моё религиозное сознание проснулось, наверное, в пять лет. С этого времени я отсчитываю ощущение конечности жизни, потому что тогда впервые меня посетила мысль о возможной смерти моей мамы. А священником я действительно хотел стать со школы. В моей нецерковной семье были люди церкви, но о них говорили шёпотом. Муж моей крёстной учился в консерватории, у него был хороший драматический тенор, он пел в церковном хоре, и об этом помалкивали. Став взрослым, я узнал, что мой двоюродный дед служил священником на Вологодчине. Мой родной дед был антицерковный, но чрезвычайно образованный духовно человек. Хорошо знал Священное писание, у него собирался деревенский кружок, он рассказывал какие-то отрывки из Библии. То есть какие-то, наверное, генетические предпосылки были.
Всё это сложилось вместе, плюс я встретил хороших священнослужителей, которые не афишировали свою принадлежность церкви. Они прекрасно ориентировались в искусстве, в музыке, были великолепными педагогами.
После школы я хотел поступать в семинарию. Но КГБ жёстко следил, чтобы ребят не из церковной среды не пропускали. Что было делать? Я очень любил музыку, в школе делал успехи на духовых инструментах, в десятом классе поступил на подготовительное в музыкальное училище. А папа мой окончил Политех. Да, я во втором поколении политехник. Он фронтовик, воевал и поступил в Политех, по-моему, в 1946 году. И он взял меня, что называется, на слабо, сказал: «Ну ты же знаешь, музыкантом не хитро быть, а вот попробуй стать инженером». Наверное, уважение к отцу сработало. И потом, в Политехе была военная кафедра, я подумал, что буду заодно заниматься и получу звание офицера запаса. Проведу эти годы в изучении всего, что только возможно.
— Военная кафедра была в здании церкви тогда?
— Да, там, где сейчас храм. И мы там занимались. Я сидел в алтаре и не мог понять, откуда эта апсида? Но это была хорошая школа для запоминания и дисциплины. Мне, как христианину, было легко и на военных сборах, потому что я умею слушаться и подчиняться. При этом я хорошо стрелял, офицеры хотели, чтобы я служил, но я как-то сослепу не отдал честь командиру бригады, и он обиделся на меня и на плацу сказал, что никогда этот курсант не будет у него служить офицером.
(1).jpg)
— А как вы учились? У вас были склонности к математике, физике в школе?
— Поступить в Политех было легко, а учиться было сложно. Но Политех давал фундаментальное образование. У меня было направление «сети и системы». В дальнейшем мне как священнику, как музыканту, системный анализ и всё связанное с ним и с управлением очень пригодилось. Физика, химия и подобные вещи мне давались легко, я любил их, а вот математика была сущим адом. Хотя матанализ в первом семестре я сдал на четыре, теорию вероятности и матстатистику, по-моему, чуть ли не на пять, мне они очень нравились, они самые неожиданные, интересные, самые творческие во всех математических курсах. Но все остальные математические дисциплины я сначала сдавал на два. Меня поймёт каждый студент того времени — сдать на тройку в общей массе было не так сложно, для этого требовалась просто хорошая шпора. А вот пересдать потом на три с глазу на глаз с преподавателем — это дорогого стоит. Надо было знать материал прилично. Так что своими тройками в Политехе горжусь.
Я же ещё параллельно учился в музыкальном училище. Ехал к восьми на лекции с проспекта Маршала Жукова, дорога занимала почти полтора часа. Со мной был саксофон большой в футляре, очень тяжёлый, я целый день с ним ходил на лекции, и после ехал в училище. Вечерами играл в ансамбле, а чуть позже стал в оркестре джазовом играть на саксофоне.
И в Политехе у меня был свой ансамбль старинной музыки. Тут я отдаю должное альма-матер, Политех всегда собирал в свои ряды очень незаурядных людей. Это какое-то поразительное заведение. Нас было четверо: три флейты и скрипка. Между лекциями играли в аудиториях, акустика там великолепная. Исполняли фламандскую музыку, итальянскую, немецкую эпохи Ренессанса, чуть-чуть барокко.
— Как вы в конце концов попали в семинарию?
— Инженерная деятельность отчасти меня привлекала. Я думал, например, пойти в институт к отцу, в «Энергосетьпроект», ныне упразднённый. Там замечательные люди работали, в том числе сын профессора Горева, выпускника номер один Политеха (4 декабря 1907 года Александр Александрович Горев получил первый диплом об окончании Санкт-Петербургского политехнического института — Прим. авт.). Для меня Горевы и Политех — это что-то особенное. Им я посвятил часть авторской передачи «Свой Петербург». Непостыдная программа получилась.
(1).jpg)
Но меня распределили в какую-то контору с очень низким уровнем проектирования и мышления, и я понял, что не хочу связать свою жизнь с этим. Забавно, что именно сотрудники этой конторы проектировали реконструкцию храма в Ленобласти, где я служил настоятелем. Можно сказать, я за них часть работы сделал, но при этом они всё-таки загубили систему вентиляции. До сих пор изживаю недостатки их проекта. Тогда я написал в Минвуз письмо, что у меня двойное образование — я ещё получил диплом референта-переводчика в Политехе, на гуманитарном факультете — и я могу работать в области исследования музыкальных инструментов, органологии, акустики. Шёл то ли 1983-й, то ли 1984-й год, уже перестройка приближалась. В общем, Минвуз неожиданно для меня ответил — ладно, свободен, давай. И меня взяли в Музей музыкальных инструментов. Сначала просто техником, через год я уже был там старшим научным сотрудником.
К тому времени, как я решил всё-таки исполнить свою детскую мечту и стать священником, у меня уже было двое детей, был опыт жизни и работы за границей. Я в России представлял большое благотворительное общество с главным офисом в Голландии, которое работало по всему миру. Начал тоже с низов, дошёл до директора российского представительства. Привозил гуманитарную помощь, оборудование для больниц, в том числе тюремных. И с семинарией тоже работали как поставщики гуманитарной помощи. Потом мои друзья спросили: ты до сих пор хочешь быть священником или уже нет? Я ещё год подождал и поступил в семинарию. Какое-то время мог продолжать заниматься благотворительной деятельностью, но, получив священный сан, я уже, конечно, только в приходах служил.
(1).jpg)
— Я этим летом побывала в Сологубовке, где находится Успенский храм, в котором вы с 2000 года служите настоятелем. Создать там мемориальный комплекс было вашей инициативой?
— Да.
— То есть, когда вы работали с поисковиками, находили останки немецких солдат?
— Нет, нет. Я занимаюсь поиском останков военнослужащих Красной Армии. А немецкими занимается Народный союз по уходу за воинскими захоронениями Германии. У них есть свои поисковые отряды из россиян. Единственное, что я делал — милость к падшим призывал. Когда я начинал работать в Кировском районе Ленинградской области, найденные останки немцев просто бросали в костёр, сжигали. Сейчас это недопустимо, сейчас никто так не будет делать, это варварство. Отношение к останкам — это отношение к Творцу, поэтому мёртвые срама не имут, и воевать с мёртвыми негоже. Но потребовалось время, чтобы прийти к такому осмыслению. Кладбище это и весь проект очень трудно давались. Когда я пришёл, там были руины храма, который разрушили немцы во время войны. Руины остались, но по бумагам их не было. И немцы получили в Москве разрешение проложить дорогу к своему кладбищу прямо через храм. И вот я пять лет «воевал» и с Москвой, и с Берлином, отстаивал это место, я не дал им взорвать остатки храма и построить дорогу. Они поняли, что со мной лучше не связываться, и сделали дорогу в обход храма. Тогда я говорю: «Ребята, негоже, здесь руины, которые после вас же остались». Они отвечают: «Нет, мы не разрушали, это русский Иван». Я нашёл свидетельства, нашёл солдат сапёрного батальона, фотографии, как они подрывают храм. Показал: «Пожалуйста, хотите, делайте своё кладбище, но эти фотографии мы выставим, и все немцы, которые будут приезжать на могилы своих соотечественников, увидят, что эти соотечественники сделали здесь». Они подумали и говорят: «Но у нас нет денег на это». Я тогда попросил прислать ко мне журналистов, и мы сделали несколько публикаций в изданиях уровня журнала «Шпигель» в Германии, в которых я рассказал, как и что, и это всколыхнуло такое народное движение, что деньги пошли со всей Европы, поэтому храм восстановлен на деньги, наверное, всех европейцев, не только немцев.
Это было время особенное. У меня несколько раз бывал там Даниил Александрович Гранин со своим другом Григорием Даниловичем Ястребенецким. Это совершенно особая когорта фронтовиков, которые пришли в старости к пониманию, как закончить эту войну, как попробовать примириться над могилами. Скульптура Ястребенецкого стоит у нас в Парке мира рядом с храмом. Это была попытка примирения, сделанная выдающимися людьми. И мне повезло, что я оказался рядом. То, что мы сделали, действительно крупнейший миротворческий проект. Он включает воинское захоронение, восстановленный совместно Успенский храм и Парк мира, который я разбил, взяв бесплатно в аренду землю в администрации. Я уже знал, что такое парк мира в Европе. Это когда на месте брутального соприкосновения противников устраивают ландшафтную зону, которая говорит о гармонии мира и трагедийности войны. Я хотел так сделать у нас. А с другой стороны, у меня была цель «заблокировать» немецкое кладбище.
— В каком смысле?
— Чтобы оно не разрасталось, чтобы не было желания построить павильон или музей. Там хотели памятник поставить в центре кладбища, я воспротивился, сказал, что может стоять только крест, такой же, как на кладбище советских солдат в Германии. Это максимум, что мы можем себе позволить. Крест является символом спасительных страданий, жертвенной любви, поэтому этот крест объединяет всех павших.
В крипте храма находится картотека погибших в России и похороненных в Сологубовке немцев, это позволительно. Но это контролируемое нами помещение. У них только кладбище и домик охраны. Это важно, потому что при всей миротворческой направленности, при всём христианском отношении к врагу я прекрасно отдаю себе отчёт, что любая вещь может быть частью героизации и романтизации смерти немецкого солдата здесь, и это недопустимо. Для меня они всё равно остаются оккупантами, а нацистская Германия — преступным государством, их программные документы и репрессивную политику я исследую как член региональной Общественной палаты. Слава Богу, мы спохватились спустя 80 лет и в рамках федерального проекта «Без срока давности» начали обнародовать то, о чём я говорил долгие годы, — о существовании немецких сортировочных распределительных концлагерей на территории Ленинградской области: 102-й ДУЛАГ, 154-й ДУЛАГ, 132-й ДУЛАГ... Я исследую преступления нацизма и злодеяния, но с мёртвыми не воюю. И захоронение немецких солдат — это чрезвычайно поучительное место. Я вожу экскурсии, рассказываю, кто есть кто. В конце концов, этот проект нашёл понимание со всех сторон, в том числе со стороны наших ветеранов. В 2000 году я с ними проехал по Германии, и они увидели, как немцы относятся к нашим могилам, в каком состоянии наши воинские захоронения там. И они согласились, что не могут ответить на это варварством или вандализмом, и поняли мою деятельность как священника, и благословили меня.
(1).jpg)
Успенский храм в Сологубовке стал крупнейшим миротворческим проектом между бывшими врагами Россией и Германией. Масштаб проекта впечатлил митрополита Владимира, и он меня направил служить в храм иконы Скорбящей Божией Матери, в Петербург. Я пришёл сюда практически на пустое место. За 20 лет мы восстановили храм, создали два музея и просветительский центр.
— Расскажите про ваш музей здесь.
— Один музей посвящён новомученикам, святым, вышедшим из нашего храма. А второй музей наверху связан с Великой Отечественной войной, поскольку я занимаюсь поисковым движением, знаю очень много поисковиков по всей России, и много уже лет работаю в области. Поисковая деятельность привела к тому, что мы создали музей военно-полевой археологии. Получилась непридуманная война, которую мы находим в окопах, в блиндажах.
(1).jpg)
— А с поисковиками Политеха вы вместе участвовали в экспедициях?
— Мы начали плотно взаимодействовать примерно в 1994–1995 годах. Но я не хожу со щупом, нет. Я скорее сижу с бумагами, с документами, я открываю какие-то места, и моя задача привлечь внимание общественности. Для этого я использую своих друзей-мотоциклистов, это делает акции зрелищными, это все видят. Если мы поедем на автобусах или машинах, никто не обратит внимания, но если я веду колонну мотоциклов в какое-то место и рассказываю, что там происходило или кто там похоронен, это все видят наглядно. Так мои друзья из мотосообщества становятся носителями этой информации. Мы устанавливаем информационные щиты, инициируем создание памятников. Уже очень много сделано в этой области, мы вернули из небытия целые войсковые части. Больше 30 щитов установили в Ленобласти без всяких согласований, на которые уходят годы. И ни один из них не тронули. Хотят — пусть снимают, но такого не происходит. Мы поставили щит на месте, где была позиция наших десантников в Красносельском районе, и там возник народный мемориал. Люди, выходя из машин, вдруг осознают, что на парковке когда-то шёл бой.
(1).jpg)
В Карелии боевой путь 18-й стрелковой дивизии весь отметили. Борницкий рубеж, где курсанты лежат, там реновация памятника была, оставили десять фамилий. А их двести человек полегло, и мы сделали щит на изгороди. Вот они, все двести, вот учитель физкультуры, который с ними пошёл, с этими ребятишками. Как-то приезжаю, смотрю, мужик косит траву, спрашиваю: «Это что, разнарядка сверху пришла?» «Нет, — отвечает, — я сам. Я прочёл, что эти ребята тут лежат». «А вы кто?» «А я, — говорит, — ректор одного вуза. У меня дача здесь недалеко».
— То есть вы очеловечиваете эти памятники.
— Мы персонифицируем историю. Это и есть любовь к Родине, которая наполняет содержанием общие слова.
По материалам media.spbstu.ru